Во другой частцы інтэрв’ю Nottoday пагаварылі з «Сербскім нажом» пра беларускасць, эміграцыю, будучыя планы і стаўленне да музычнай індустрыі.
Белорусская музыка в эмиграции: вызовы, позиции
Вы — белорусы в изгнании. Как жизнь и атмосфера Варшавы влияют на ваше творчество? Позволяет ли это выйти из белорусского контекста, или белорусский контекст для вас важен?
Ст: Мне кажется, что жизнь в Варшаве — во многом столице белорусской эмиграции — с одной стороны, действительно позволяет выйти из белорусского контекста. В том смысле, что мы можем посмотреть на себя как на белорусов со стороны, оценить свою жизнь в Беларуси с некоторой дистанции.
Понять себя как белорусов мы можем именно находясь вне Беларуси. Когда ты живёшь внутри страны, где тебя окружают исключительно белорусы, ты не задумываешься, что это значит. Даже если ты бывал за границей, этого опыта недостаточно, потому что ты не живёшь постоянно вне своей среды. А когда оказываешься здесь, в Польше, ты можешь заметить, что отличает тебя от поляков, украинцев или других людей.
Живя здесь, мы можем взглянуть на себя со стороны именно потому, что нет постоянного окружения только из белорусов. Это с одной стороны. С другой — здесь очень много белорусов, и лично я не всегда чувствую себя за границей. Повсюду белорусские места, маршруты, привычные люди. Даже если общаешься с поляками, всё равно каждый день встречаешь белорусских друзей. Поэтому одновременно и да, и нет.
Музыка, на мой взгляд, не имеет национальных «черт». Другое дело, что у нас есть опыт жизни в Беларуси, есть связь с её историей и культурой — и это может влиять на музыку или на наши теоретические размышления. Но от этого она не становится исключительно белорусской. Есть музыка, ориентированная только на белорусский контекст, на белорусский язык, на белорусскую аудиторию — но это не про нас.
Мы не стремимся работать только для белорусов. Наши темы, даже если песни на белорусском, остаются общечеловеческими, они не сводятся к национальной идентичности. Язык и национальные мотивы для нас — это форма, которая в чём-то диктует содержание, но при этом не является самоцелью. Это лишь средство для выражения мыслей, которые выходят за пределы национального.
Д: Полностью солидарен с предыдущим оратором.
М: Я, наверное, скажу от обратного. Мне всегда казалось, что музыка — это скорее инструмент для донесения мыслей, в том числе для передачи особенностей менталитета или чего-то близкого к этому. Музыка легко поддаётся такой задаче.
Что касается контекста, я согласен со Стасом, но добавлю: в эмиграции рано или поздно возникает желание сохранить в себе белорусскость, остаться в белорусском контексте. Но этот контекст неизбежно начинает отдаляться — постепенно теряется связь с большой землёй, с людьми, со страной.


У вас есть тексты на белорусском языке. Это какой-то осознанный выбор или естественный внутренний импульс?
С: Вообще, по вопросу поэтичности я скажу ещё кусочек: мне абсолютно всё равно. Я считаю себя, с одной стороны, беларуским композитором, а с другой — признаю, что, несмотря на то что идентичность — это конструкт, это такой конструкт, от которого мы можем и избавиться, если нужно… хотя, на самом деле, не всегда нужно. Если идентичность используется не для того, чтобы вредить другим, а для того, чтобы связывать, объединять, то это — важная вещь.
Что касается текстов на белорусском — они просто начали появляться, когда я переехал в Польшу. Я не пишу тексты так, что, знаешь, сел и решил: «Хочу написать песню про бутылочку безалкогольного пива». Нет, я так не работаю. У меня тексты появляются сами по себе. И вот, прожив какое-то время в Польше, я заметил, что некоторые начали получаться именно на белорусском. Я специально это никак не культивировал. Просто совокупность контента, который я стал читать и потреблять, в том числе на польском языке, каким-то образом дала возможность писать тексты на белорусском.
Но, как уже ребята говорили, меня интересуют в первую очередь вопросы общечеловеческие — очень серьёзные: насилие, природа человека, природа власти, природа самого себя. Вопросы, которые будут интересны человеку в любой точке мира, независимо от языка, на котором он говорит. И при этом мы обсуждаем их, понятно, на своём языке.
Я всегда подчёркиваю (в пику людям, которые читают меня с предвзятостью), что мой родной язык — русский. Родной в том смысле, что на нём говорили моя мать, мой отец, моя бабушка, мой дедушка. У меня нет ни одного человека в семье, который бы говорил на белорусском. Даже среди более дальних предков — скорее немцы, и у них немецкий родными языками. И вообще самый народный язк это идишь.
Ст: Я бы ещё добавил, что, конечно, это всё в начале происходит бессознательно — с точки зрения того, на каком языке рождается текст. Но есть мысль, что язык всё же становится определённым художественным приёмом, хоть и неосознанным. Он, будучи формой, иногда начинает диктовать содержание.
Мне кажется, что некоторые песни могли бы родиться в том виде, в котором они есть, только на белорусском языке. А другие — только на русском. Если бы они изначально писались на другом языке, это уже была бы немного другая песня: могли бы появиться другие образы. Белорусский язык, например, диктует определённые образы, определённые фонетические и музыкальные решения. И из-за этого даже музыка, поверх которой будет читаться текст, может получиться другой.
Это не что-то обязательное или запланированное — просто так выходит, что язык подсказывает, о чём мы будем на нём писать и говорить. У него есть своя жизнь, и она влияет на то, что в итоге будет написано.
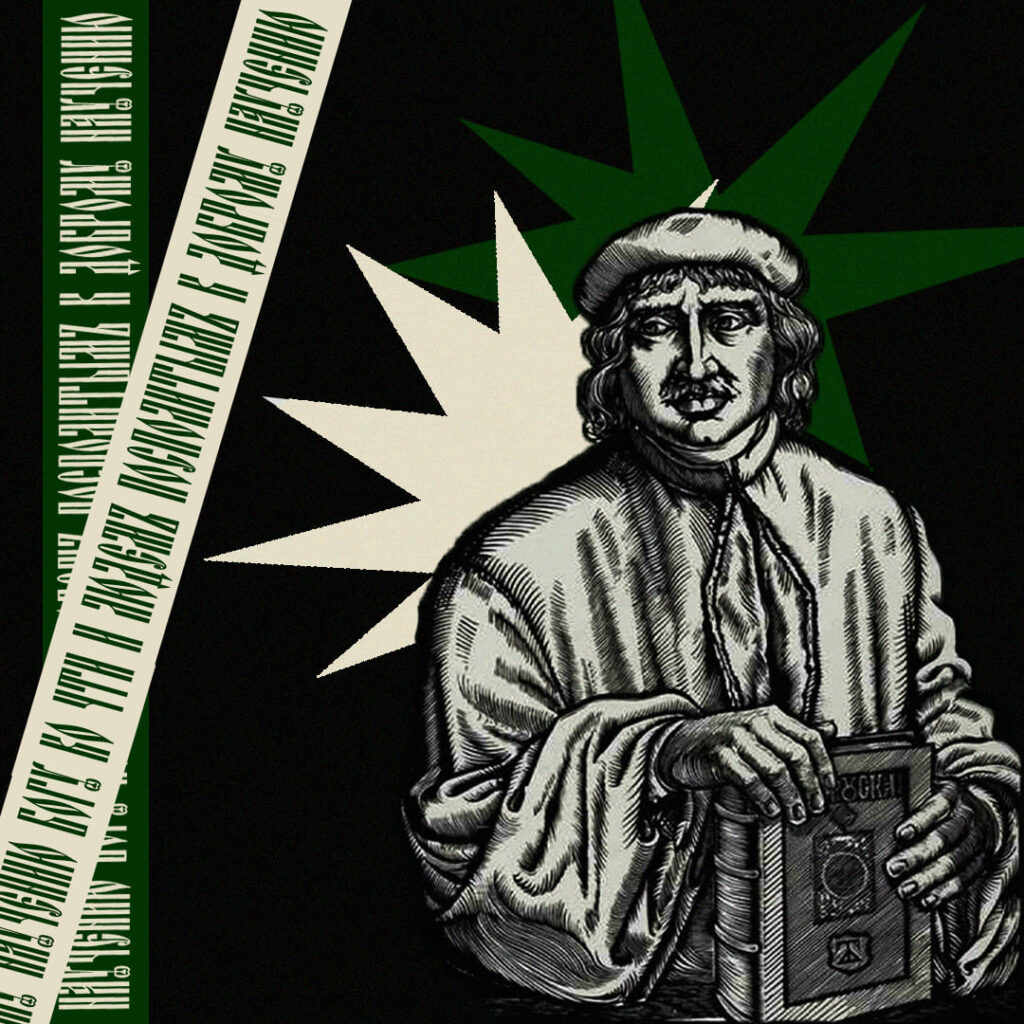
С какими вызовами сейчас сталкивается белорусская музыкальная культура в эмиграции, на ваш взгляд?
Ст: Думаю, что главная проблема — это движение в сторону конъюнктуры и конформизма. Речь даже не о самой музыке, а о музыкальном пространстве в целом. Индустрия, если её так можно назвать, стремится к повторению одного и того же: одни и те же имена, одни и те же события, никакого интереса к новому или к экспериментам. Максимум, что считается «свежим» — это, например, этническая песня на старые мотивы, совмещённая с электроникой, и это подаётся как что-то невероятно оригинальное.
В реальности мы постоянно видим одни и те же лица. Всё держится не на больших организациях, а на небольшом круге людей, которые работают «ниже радара», делают всё искренне — организуют концерты, фестивали, привозят новых артистов. А крупные площадки часто просто ежегодно проводят один и тот же фестиваль с теми же артистами: Лявон Вольский, «Петля пристрастия» и ещё несколько групп. Артисты в этом не виноваты, им респект, но подход получается формальным. Публика довольна, пару постов выйдет, и все считают, что «культура живёт». На деле же это, скорее, осознанный конформизм: мы что-то делаем, но не прикладываем усилий, просто плывём по течению.
М: Я бы добавил про эмиграцию. Несмотря на то, что белорусская музыкальная тусовка за границей довольно большая, круг людей всё же ограничен. Интеграции в другие среды — польскую, украинскую — почти нет или она происходит не в том объёме, в каком хотелось бы. В Варшаве, например, существует отдельный «пузырь» белорусской музыки, украинской и польской — связи между ними редкие и часто выглядят неловко. Мы пытались договариваться с польскими музыкантами о совместных концертах, но это всё сложно.
Есть ещё риск, что из-за ограниченности ресурсов люди будут ссориться и обрывать связи, что только навредит. Нам важно «выкрутить на максимум» уровень терпимости, находить общий язык со всеми.

Поговорим про музыкальную индустрию. Ваше участие в DIY-сцене — это осознанный выбор или вынужденная мера?
Ст: Думаю, и то, и другое. Мы играем там, куда зовут, и будем рады любой возможности. Это не какой-то стратегический выбор, просто так сложилось. Конечно, приятно играть со своими друзьями, но называть это полностью осознанным решением нельзя.
С: Для меня DIY был привлекательным с самого начала — делаешь всё сам, контролируешь процесс, зовёшь тех, кого хочешь, играешь там, где хочешь. Но рано или поздно упираешься в потолок: индустрия — это не только деньги и «жирные продюсеры», но и целая инфраструктура — студии, продакшн, клипы. В Беларуси этого нет, поэтому у нас и нет выбора между мейнстримом и андеграундом.
В нашем регионе всё делается на коленке, с минимальным бюджетом. На таких проектах много не заработаешь, поэтому приходится действовать своими силами. Это даёт свободу — мы делаем, что хотим, без контрактов и лишних обязательств, но и ограничивает.
Как вы думаете, музыка в современном мире должна нести какой-то социально-культурный, политический посыл? Или это могут быть пестни про «Розового фламинго»?
Ст: Каждый сам решает, о чём петь. Никто никому ничего не должен. Если человек хочет петь про «Розового фламинго» — пусть поёт.
М: Согласен, вопрос «должна ли музыка?» звучит странно. Я для себя делю творчество на условно «эскейпистское» и «рефлексирующее». Эскейпизм — это не обязательно что-то пустое, это может быть и «Розовый фламинго», и высокое абстрактное искусство. Рефлексия — это может быть как и Z-песня, так и противоположные песни и личные переживания.
Сейчас у варшавских белорусских исполнителей всё больше появляется рефлексии о себе, о месте, в котором они оказались, о происходящем. И то, и другое имеет право на существование, но лично мне ближе рефлексирующая часть.
С: В периоды потрясений, конечно, важно занимать сторону. Есть древнегреческая легенда, что во время войны людей, не выбравших сторону, после её окончания изгоняли из полиса. Но при этом я против давления: нельзя заставлять артиста высказываться. Если кто-то игнорирует происходящее, можно просто дистанцироваться от него.
Обычный человек как и творческий человек всё равно политическое животное, только у последнего есть аудитория, влияние, а значит — и ответственность. Я всегда сам занимаю чёткую позицию в политических вопросах, но если меня вынуждают это делать под давлением, я принципиально отказываюсь.
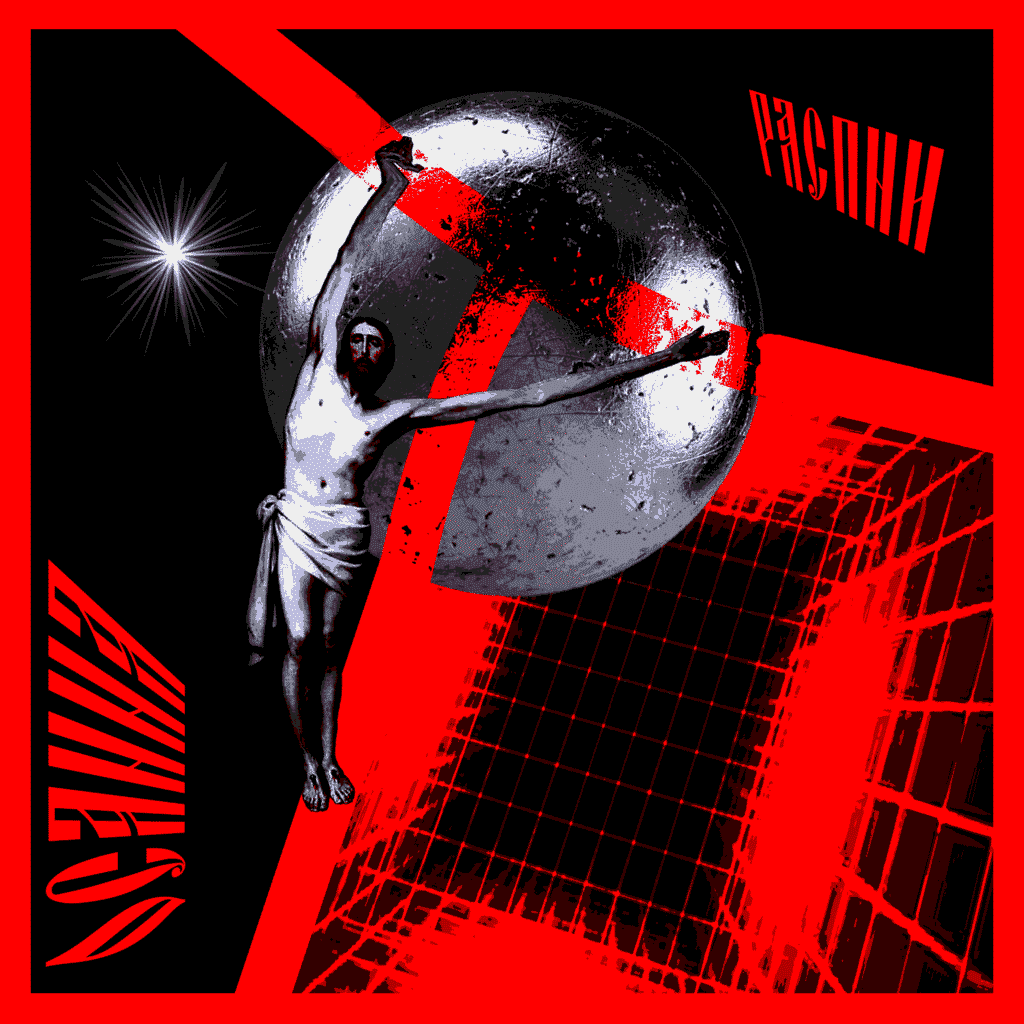
Взгляд в будущее
Какие темы вы хотели бы исследовать в будущем в вашем творчестве? Что ещё не было у вас озвучено?
С: Лично для себя могу сказать, что в последнее время меня особенно интересуют вопросы идентичности — на фоне миграций и вообще всех процессов, которые происходят вокруг нас в обществе. Мне бы хотелось глубже понимать эти темы и рассуждать о них. Но это уже будет, скажем так, после того, как мы выпустим следующий альбом.
Следующий альбом у нас будет, можно сказать, о корнях зла и корнях добра, которые известны людям. Мы будем размышлять, почему и зачем происходят события, искать самые глубокие основания. А дальше уже планирую обращаться к вопросам идентичности. Эта тема очень живая и актуальная. Мир сейчас меняется, старые национальные государства умирают и будут умирать, и в дальнейшем мы будем жить в условиях, когда многие привычные смыслы будут утрачены.
Ст: Если говорить обо мне, то в последнее время в творчестве — и в поэтическом тоже — меня интересует тема ошибочности и обманности поэтического вдохновения. У многих поэтов, как я считаю, именно это и происходит: они находятся в каком-то возвышенном, почти сакральном состоянии, но потом оказывается, что это было скорее иллюзией.
Человек может переживать такое состояние окрылённости, чувствовать в нём что-то божественное, но при этом теряться в нём, не находить в себе сил, чтобы что-то с этим сделать. Я для себя в этом состоянии видел нечто сакральное, божественное, а потом понимал, что это, возможно, было не тем, чем я его считал. Из-за влияния этого ложного, неправильно понятого «поэтического голоса» иногда происходили события, которых мне не хотелось бы. Это для меня важная, даже религиозная тема — тема ошибочного или искажённого голоса Бога. Собственно, этим я сейчас и занимаюсь.
И да, ещё для меня очень важна тема эмиграции и ощущение потерянности между той пропастью, которая разделяет нас и тех, кто сейчас находится в Беларуси. Это тоже значимая для меня линия, и я стараюсь её поднимать в своём поэтическом творчестве.
М: Не думаю, что мне есть что-то особенное добавить, но соглашусь, что сейчас мне ближе всего рефлексия о себе, о месте, где мы находимся, о происходящих событиях как о реакции на то, что вокруг. Особенно интересно то, как на всё это накладывается время. Многие острые события уже находятся на расстоянии, и воспринимаются совсем иначе, чем тогда, когда они происходили. На данный момент, наверное, это то, что меня волнует больше всего.


